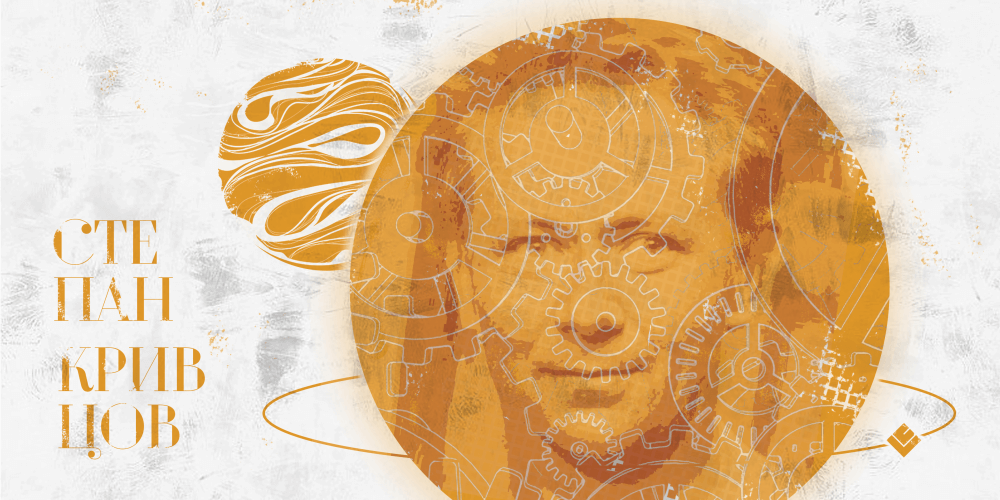Солидарность реакции
Ко дню возобновления процесса, 21 июля 1992 года, бывший диссидент Владимир Буковский подготовил для «Известий» целый разворот о международной реакции на «дело КПСС». Этим он хотел продемонстрировать, что осуждение коммунизма не вызовет для России серьёзных внешнеполитических последствий.
В те времена «демократического романтизма» ещё мало кто всерьёз задумывался о том, что осуждение СССР неизбежно будет связано с серьёзными правовыми последствиями для Российской Федерации как её правопреемницы. Звезда Андрея Козырева ещё не успела упасть, и политологи верили, что Россию на Западе ждут, как потерянного брата.
Очень прагматичным было заявление со стороны США: ни слова пафоса, ни слова об идеологии… И ни слова поддержки. Только требования, требования и требования. Американский конгресс требовал обнародования всех документов о деятельности КПСС после 1917 года. Особенно конгрессменов интересовали материалы о финансировании КП США, ряда западных террористических организаций (IRA и RAF), о внешней разведке и судьбах американских военнопленных. Ещё их заинтересовало состояние структур КПСС и её имущества на данный момент — по-видимому, из желания убедиться, что пациент умер окончательно и бесповоротно. Без этих документов Конгресс не гарантировал ни одной стране бывшего СССР оказания экономической помощи.
Схожее заявление сделал член Европарламента от Великобритании Николас Бетелл. Заявление Хельсинкской группы шло ещё дальше: согласно ему, даже низовые ячейки КПСС не должны впредь функционировать, ибо уже они являются угрозой демократии.
Самыми радикальными же были заявления Маргарет Тэтчер (к тому времени уже частное лицо) и «Женевской инициативы по психиатрии». Последняя имела свои счёты к советскому государству в связи с практикой «карательной психиатрии», которая применялась в позднесоветское время к инакомыслящим. В этих заявлениях коммунизм напрямую отождествлялся с нацизмом. Не могу удержаться от цитирования Тэтчер:
«У меня нет сомнений в том, что в период моего пребывания на посту премьер-министра Великобритании наибольшей угрозой для мира и процветания во всём мире был коммунизм. Лишь поражение коммунизма позволило миллионам людей получить свободу. Сердцем коммунистической системы была КПСС. Коммунизм никогда не был просто идеологией: подобно нацизму, он представлял собой идейную основу тоталитаризма. <…> Если бы этот запрет был снят, для всего мира это послужило бы зловещим признаком того, что долгожданные великие перемены в России находятся под угрозой. Как друг России и друг свободы я считаю своим долгом изложить своё мнение»1 .
Подобный набор мнений, на самом деле, был очень скромным для того времени и скорее иллюстрирует широту личных связей самого Владимира Буковского. Заявление солидарности — ещё не все политические реалии, тем более, серьёзной силой из этого набора обладало только заявление Конгресса США: остальноё было либо частным мнением, либо носило рекомендательный характер, а главное — не давало никаких гарантий будущего сохранения международных прав.
Лишь спустя несколько месяцев после начала процесса глава российского МИД Андрей Козырев позволил себе заявление по данной проблеме:
«Если мы позволим себе засомневаться в антиконституционности КПСС, в международном сообществе это будет воспринято отнюдь не как свидетельство нашей демократической зрелости.
Для демократических государств акты публичного покаяния — нормальное явление. Через признание своей ответственности за противоправные действия и добровольное принятие на себя обязательства не допустить их повторения прошли многие страны мира. Это не только ФРГ и Япония. Это и Франция, публично отторгнувшая позор режима Виши, и США, не раз каявшиеся в грехе расизма и до сих пор продолжающие искупать его»2 .
Для читателей газеты «Труд», быть может, всё звучало убедительно. Вот только по факту Козырев намеренно смешивал случаи покаяния по международному суду и под внешним управлением с покаянием перед зеркалом. Правовые и международные последствия здесь были совершенно иными.
К слову, это было ещё и давление на Суд, но такие «мелочи» никого не интересовали. «Казалось бы, в кои-то веки коммунистов судят, можно и простить», — подобным образом рассуждали тогда те, кто ныне воет волком от «судебного произвола». Таков механизм буржуазной демократии: чрезвычайные исключения быстро становятся правилом, которые её хоронят. Между подобным отношением к закону, 1993 годом и современной политической системой связь самая что ни на есть прямая.
«Горячую солидарность» с судебным процессом в России проявили и новые режимы в бывших странах Варшавского договора. Правительство Чехословакии (на тот момент ещё единой страны) передало Ельцину огромное количество документов, связанных с международной деятельностью КПСС3 . Особенно примечательно, что не Суду и не в установленном законом порядке, а первому лицу и в качестве подарка.
Коммунистам тоже удалось добиться некоторых заявлений в свою защиту по международной линии, но, как и в случае с Владимиром Буковским, носили они скорее пропагандистский характер.
Самым серьёзным достижением коммунистической стороны было открытое письмо 11 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, представлявших левые партии 10 стран. Представители ПАСЕ отмечали: антикоммунистические Указы Президента РФ вступают в противоречие с европейскими ценностями, и если Россия хочет ускорить своё вступление в Совет Европы, их необходимо отменить4 .
Солидарность проявили и коммунистические партии по всему миру5 , но мировое коммунистическое движение переживало упадок, потому их поддержка на тот момент могла быть только моральной.
Очередной политический ход сделал и Борис Ельцин. Правда, вновь неудачный. 31 июля 1992 года Президент (который, я напомню, был ответчиком по одному из ходатайств) присвоил всем участвовавшим в процессе Судьям высший квалификационный класс и, соответственно, повысил оклад на 30 %. Со стороны ситуация очень напоминала подкуп. Усугубляло положение то, что с точки зрения закона подобные вопросы в то время решались специальными квалификационными коллегиями, а Ельцин присвоил себе эти полномочия «явочным порядком». И вот неожиданность: эти полномочия по сути попирают принцип независимости различных ветвей власти, над которым так трясутся буржуазные демократы. Уже не в первый раз, если читатель внимательно следит за повествованием.
Это наносило удар и по престижу самого суда, и по президентской стороне, в нём участвующей. Если этот шаг и возымел какое-то воздействие на судей, то только самое раздражающее. Судья Морщакова даже публично заявила Президенту, что «в подачках не нуждается»6 .
Объяснить такое поведение Ельцина трудно. Он не мог не понимать всех последствий этого публичного жеста. Каков же здесь был расчёт? Быть может, перенести огонь критики на суд в целом и тем самым заведомо дискредитировать его решение, которое вряд ли уже могло быть столь скорым и радикальным, как на то рассчитывали демократы?
Вопрос сложный. Скорее всего, в будущем потребуется вскрыть многие внутренние пружины данного события, чтобы ответить наверняка.
Крушение КПСС глазами свидетелей
С 21 июля по 13 августа 1992 года в «Деле КПСС» начался новый этап — допрос свидетелей. Этап чрезвычайно объёмный и непростой, хотя бы потому что изначально их было заявлено 137 человек, да к ним ещё 117 экспертов. Заслушать их всех было физически невозможно, и в итоге выступило всего 45 человек, из которых 9 высших должностных лиц партии и государства опросили даже не сразу: они были приглашены отдельно, в период с 6 по 12 октября.
Казалось бы, не так уж и много в сравнении с изначальными планами. Но «чистым текстом» это без малого шестьсот страниц мелким шрифтом с минимальными полями. Примерно полтора тома из шести. Всё это переказывать мы не будем: ограничимся тем, что касается обстановки внутри КПСС накануне запрета, судьбы её структур после 1991 года, а также взаимоотношений партии и государства в той степени, в которой свидетельства будут представлять собой нечто уникальное. Нельзя обойти стороной и сведения, затрагивающие расхожие антикоммунистические предубеждения. Вопросы, касающиеся деятельности КПСС по финансированию «международного терроризма» мы вынесем в отдельный материал.
Надеюсь, это пояснение позволит избежать вопросов о том, почему не упомянуто о том или ином свидетеле, не процитированы те или иные факты и т. д. Заранее отмечу, что нелицеприятных историй, бросающих тень на КПСС, в этих показаниях было достаточно. Нет умысла скрыть это.
Теперь немного о специфике процессуальной стороны вопроса.
Во-первых, нигде не был закреплён принцип состязательности конституционного судопроизводства. На стороны не было возложено бремя доказывания тех или иных фактов. По воспоминаниям Феликса Рудинского, только на заседании 10 июля судьи сошлись во мнении, что доказательственное право на процессе имеет место. Тем не менее, соблюдалось это, по мнению Рудинского, не всегда7 .
Во-вторых, в Конституционном Суде тех лет была велика власть судебного волеизъявления: если чего-либо в законе нет (а в то время ещё много что не было прописано), это оставалось на усмотрение председателя Конституционного Суда. Например, статусы свидетеля и эксперта в законе не были разграничены, и любая критическая оценка свидетелем событий могла привести к смене его статуса. Если председателю суда казалось, что «свидетель не свидетель», то такое лицо с его лёгкой руки могло стать экспертом. Если председатель Конституционного Суда заявлял, что не нашёл в оценках какого-то из экспертов ничего ценного, он мог попросту не приобщать их к делу. И даже оспорить это было нельзя, ведь не было никаких объективных критериев для сопоставления буквы закона с фактическим ходом дел. Это была субъективность Валерия Зорькина, возведённая в закон8 . Ярким примером судейской вседозволенности стала ситуация с допросом В. А. Лебедева, свидетеля со стороны Президента РФ. Он в своих показаниях допустил оценку: «путч не был спонтанным явлением, он стал логическим развитием проводимой консервативной частью КПСС линии». Адвокат Ю. П. Иванов потребовал у Председателя Суда вмешательства. Аргументация была такова: Лебедев здесь в качестве свидетеля, а не эксперта, он не должен говорить «я считаю», он должен говорить «я видел». В результате конфликта из процесса был удалён сам Ю. П. Иванов — благо ситуацию удалось замять9 . Забавно, что из стенограммы этот момент вырезали вовсе, а в газетах написали, что Иванов якобы «оскорбил» Председателя Суда10 — по-видимому, напоминаниями о необходимой беспристрастности.
В-третьих, суд допускал для представителей сторон возможность свидетельствовать по собственному делу. Вообще, в судопроизводстве так быть не должно: представители стороны заинтересованы в исходе процесса, они не могут быть источником объективных свидетельств. Тем не менее, так было.
Это позволило президентской стороне, у которой со свидетелями всё было плохо, выставлять вместо них и народных депутатов, подписавших ходатайство Румянцева, и полномочных представителей Президента в регионах. Сами себе сторона, сами себе свидетели, частично — сами себе судьи…11
Отвечая на возражения коммунистической стороны, Зорькин замечал, что у неё в свидетелях тоже достаточно людей из бывшего аппарата партии: разве они не столь же ангажированы? Логично, на первый взгляд. Но Рудинский отмечал, что это сравнение глубоко неверно по сути12 .
Бывшие члены КПСС, в том-то и дело, лишь были связаны единым интересом, единой волей. Кто-то мог осознавать эту общность и, несмотря на уничтожение партии, считать себя коммунистом, а кто-то мог не осознавать. Как, например, А. Яковлев, М. Горбачёв или О. Лацис. Это уже был вопрос свободного морального выбора. Они не представляли чьей-либо воли, никаких обкомов уже не было. Всё рухнуло.
А когда человек находится на государственной службе здесь и сейчас, связан формальными обязательствами с Президентом как заинтересованной стороной и представлен при этом Суду и общественности как незаинтересованная сторона — это абсурд. Но мало ли его уже было в этом деле — и сколько ещё будет?..
Будет его много. Например, вопросы свидетелям задавал Генеральный прокурор РФ В. Г. Степанков. Он находился в зале, но не был участником процесса ни от одной из сторон. Он просто брал и задавал, если хотел13 .
Силы тёмные, грозные, антиперестроечные…
Как мы уже говорили, «Дело КПСС» важно не столько юридически, сколько исторически. В ходе разбирательства были созданы источники, несущие уникальную информацию о жизни и смерти самой успешной партии в российской политической истории.
Только вдумайтесь. Большинство людей, принявших присягу в зале Суда как свидетели, скорее всего не оставили бы о себе ни строчки мемуаров. Сотрудники горкомов и райкомов, побеждённые и ушедшие с политической сцены члены ЦК, рядовые коммунисты… Люди, которые никогда бы не попали в поле внимания историков и сами бы никогда не заявили о себе. Современник редко задумывается о том, что когда-то его время станет далёким и загадочным для пришедших после. Благодаря Суду же мы можем сквозь стенограммы заглянуть туда, в повседневность политической машины, идущей ко дну.
Особенно это справедливо в отношении тех, кого либералы собирали в категорию «антидемократических сил». Потерпев поражение в 1990-х, они оказались выброшены не только с политической арены, но и за пределы истории. Все мы знаем, что у перестройки были противники — и у рыночных реформ были противники. Но кто были эти люди? Какова была внутренняя эволюция этого пёстрого лагеря? Геннадий Зюганов и выборы 1996 года — всё, что нам осталось.
Потому источники, подобные этим стенограммам, и имеют такую ценность. Мы видим изначальное зарождение этого политического лагеря, причём не всегда на официозном уровне. Мы вплотную знакомимся с теми, о ком обычно говорят «в массе своей».
Начнём с показаний Г. И. Скляра. На 1991 год — первый секретарь Обнинского горкома КПСС, депутат городского совета, избранный на альтернативной основе из 4 кандидатов. Скажу сразу: политическая карьера данного гражданина была довольно нетипичной для того времени. Даже на фоне коммунистов тех лет Скляр тот ещё капитулянт. Впрочем, если кого-то и предъявлять на суде перед демократами, то только такого.
В своих показаниях Скляр пояснил, что горком неукоснительно следовал курсу перестройки. Предоставлял помещения своим политическим противникам (!), отдал им в распоряжение свою прежнюю городскую газету (!!), организовывал выступления демократически настроенных деятелей (!!!). На сдачу — обнинский горком ударно выполнял Указ о департизации государственных органов и предприятий, отказавшись при этом от всех несвойственных политической партии функций14 . Впрочем, уточняя свою позицию в ходе вопросов от одной из сторон, Г. И. Скляр добавил, что зачастую в исполкомах даже не было людей, способных грамотно организовать уборку картофеля. В связи с этим в хозяйственную деятельность наскоками приходилось возвращаться, просто потому что просили15 .
Г. И. Скляра, по его словам, полностью устраивал вариант политической системы, которую он увидел при поездке в ФРГ, где ХДС может быть у власти, а на местах работают социал-демократы16 .
В ходе «демократизирующих» мероприятий в горкоме были полностью рассекречены и преданы огласке все находившиеся ранее «под грифами» внутрипартийные документы. В процессе допроса также выяснилось, что шифрограмма Секретариата ЦК, требующая от местных отделений оказать поддержку ГКЧП, секретарём Калужского обкома была сокрыта от подчинённых, потому в Обнинске о ней узнали только из СМИ, и то 22 августа17 . Обнинский горком толком даже не знал, относится ли он к КПСС или к КП РСФСР из-за организационной чехарды, хотя разницу между организациями знали и понимали18 .
Согласно сведениям Скляра, горком не поддержал ГКЧП и уже вечером 19 августа общим голосованием осудил создание комитета, а 20 августа коммунисты в составе горсовета голосовали за поддержку Б. Н. Ельцина. 22 августа Г. И. Скляр выступил с заявлением, в котором убеждал население, что главное — не ввергнуть страну в гражданскую войну. После подписания Президентом РФ Указов о приостановке деятельности КПСС и КП РСФСР секретарь горкома отправил президенту «челобитную» с прошением разрешить дальнейшую деятельность. В здании суда Г. И. Скляр также свидетельствовал о необоснованности этих Указов.
Обнинский городской комитет к моменту запрета имел на счетах 300 тысяч рублей, причём половина из них была в распоряжении первичных отделений. Основные статьи расхода — издание газеты, социальная помощь малоимущим членам партии и содержание местного дискуссионного клуба19 . В отличие от политического капитулянтства, ситуация с финансами в обнинском горкоме была самой что ни на есть типичной: почти все секретари низовых ячеек отрапортуют о бюджете в схожем духе.
Суд также опросил в тот день Л. В. Олейник, члена райкома Целинного района Курганской области, по совместительству заместителя председателя Целинного райсовета. Она стала первым свидетелем из провинции, прямо засвидетельствовавшим факт политических преследований бывших членов КПСС.
Но прежде Олейник рассказала о полном завершении процесса департизации и разграничения партийных и государственных функций20 . Правда, райком столкнулся с неожиданной сложностью — отсутствием каких-либо иных политических сил в районе, а потому де-факто совет продолжал состоять из коммунистического большинства и беспартийных. Департизация по сути выражалась в отсутствии совместных постановлений райкома и райсовета.
О событиях 19 августа 1991 года в райкоме узнали из СМИ, никаких действий по поддержке ГКЧП райком не предпринимал, а обком, несмотря на телефонные запросы, как-либо инструктировать подчинённых отказался. Когда всё закончилось и Президент подписал Указ о приостановке деятельности КПСС и КП РСФСР, партийное здание было опечатано и взято под охрану РОВД21 . Счета со взносами были сначала заморожены, а потом вовсе изъяты.
Не смирившись с запретом компартии, 8 февраля 1992 года Л. В. Олейник приняла участие в работе областной учредительной конференции Социалистической партии трудящихся (СПТ). 21 февраля 1992 года ей позвонил прокурор района, принялся давить на неё, ссылаясь на предписание первого заместителя прокурора области, и потребовал от Олейник написать объяснительную. Свидетельница отказалась это сделать. После этого прокурор заявился к ней на работу и в течение рабочего дня давил на неё, заставляя дать объяснение по поводу участия в учредительной конференции СПТ в регионе22 . Когда пришло время уточняющих вопросов, Олейник подтвердила, что в предписании областной прокуратуры была ссылка на Указы Президента РФ от 23−25 августа и 6 ноября 1991 года. Прекратить это удалось только с обращением в областной Совет народных депутатов23 .
Читатель может отметить, что как-то невелика угроза — подумаешь, прокуратура на мозги капает. Но тут нельзя не учитывать контекст.
Сейчас «униженного и оскорблённого» мгновенно бросаются выгораживать все окрестные либералы, сразу встаёт на уши информационное пространство, включая несколько правозащитных ресурсов типа «ОВД-Инфо»… Часто полиции проще перестать трогать активиста, чем разбираться с такими неудобствами. Тогда же никаким правозащитникам «кровавые коммуняки» были не нужны, и при отсутствии правильных связей искать помощи было просто негде. А участковый ходит по соседям, задаёт странные вопросы и рассказывает всем, что ты крайне антисоциальный элемент, склонный к экстремизму, терроризму и чёрт знает к чему ещё; тебя постоянно вызывают на беседы, портят репутацию на работе… Даже сейчас управы на такие «походы» зачастую не найти, и приятного в этом мало.

Серьёзность показаний этой женщины подтверждает то, с каким бешенством радикал-демократы и представители президента пытались эти свидетельства дезавуировать, начиная от поиска компромата на саму свидетельницу24 и далее везде. Хотя, казалось бы, куда уж хуже? Но вот, пожалуйста: в «Российской газете», например, о показаниях Олейник касательно этого вопроса не упомянули даже вскользь. От всей её речи журналистка Инна Муравьёва оставила только этот фрагмент:
«Сергей Шахрай задал вопрос свидетельнице Олейник:
„Вы говорили, что после указов в прессе появились призывы к расправе над коммунистами. Вы можете назвать эти газеты, эти средства массовой информации?“
— В нашей газете, которая выходит в нашем районе, таких призывов, конечно, не было… Но в других средствах массовой информации… — таков был ответ Любови Олейник»25 .
Ни слова о преследованиях, всё внимание на том, что женщина, растерявшаяся перед телекамерами и высокими людьми в мантиях, не смогла подобрать конкретный пример.
Знаете, в 2019 году заниматься доказательством того, что в начале 1990-х СМИ находились в состоянии антикоммунистической истерии, даже забавно. Веселее этого могло бы быть только доказательство столь очевидных вещей самим же современникам.
Вот, например, показательный случай. К сожалению, я не нашёл оригинала. Цитирую по газете «КоммерсантЪ» от 27 июля 1992 года:
«Не вполне удовлетворена происходящим и газета „Куранты“ в лице своего политического обозревателя поэта А. Иванова. По словам Иванова, сейчас надо было бы заняться не судом над КПСС, а судом над всем международным коммунистическим движением — по типу Нюрнбергского процесса, но „покруче“ . А коммунистическая пропаганда, пишет Иванов, должна быть признана „самым тягчайшим преступлением против человечества“. И пресекать её следует не иначе как „соответствующим образом“»26 .
Но нет, больно поздно. По датам — уже после показаний в Конституционном Суде. Но вот случай за 1990 год, ещё даже Союз существовал — известный скандал с Министром печати РСФСР Михаилом Полтораниным, когда он допустил следующее высказывание в адрес прокоммунистической прессы:
«Я бы не хотел, чтобы мы опять прошли через новый этап гражданской войны… здесь не будет, как говорится, правых и виноватых. Так вот, все люди, которые так или иначе прислуживают, особенно есть журналисты у нас партийные, которые сделали свой выбор, да и не только журналисты, они должны сознавать, что они играют с огнём и они не думают о будущем своей семьи»27 .
Это просто то, что попалось случайно под руку по ходу сбора материала. А ведь сколько тогда выходило газет, было и радио, и телевидение… В первой части нашего материала, например, была архивная видеозапись выступлений Московского объединения избирателей за 1990 год. Там разве что сжигать заживо не призывали. Такое ощущение, будто упомянутая Инна Муравьёва писала свои репортажи не из Москвы, а откуда-то из глухого старообрядческого сообщества в Сибири, ну или просто передёргивала факты. Но как можно, ведь либеральная пресса и «святые 90-е»?!
О преследованиях заявил и бывший секретарь Брянского горкома О. А. Шинкарёв. Пытаясь устроиться на работу, он подал конкурсную заявку на должность преподавателя в Брянском институте транспортного машиностроения. Тут же вся местная пресса начала поливать соискателя должности грязью, начались звонки в вуз с требованиями не допускать бывшего секретаря горкома к работе. Ряд «демократически» настроенных преподавателей, а в особенности профессор Суслов (какая тонкая историческая ирония!), на заседании кафедры 31 октября 1991 года требовали не допускать коммуниста к студентам. Положение спас начальник отдела кадров, который заявил, что не потерпит в учебном заведении «охоты на ведьм». Тем не менее, вопрос к моменту заседания ещё не был закрыт, и О. А. Шинкарёв продолжал судиться с местной прессой, которая публично ставила под сомнение правомерность его трудоустройства. На работе он также подвергался прессингу со стороны коллег с резко антикоммунистическими убеждениями28 .
На самом деле, методы травли тут не новые: все эти дороги исхожены многими нелояльными преподавателями в 1970-х. Но проблема в том, что нам остался миф, который гласит, что, в отличие от своих «гонителей», демократы никого не преследовали и им не был свойствен какой-либо «маккартизм».
Брянский горком партии также не принимал участия в ГКЧП, обком просто не поставил их в известность. Все предписания о департизации учреждений, ведомств и предприятий были выполнены. Но, судя по выступлению О. А. Шинкарёва в целом, он куда меньше смирился с переменами, чем Г. И. Скляр из Обнинска. Шинкарёв также указал, что на деле «всевластие парткомов» к августу 1991 года исчезло, но на смену ему пришло новое. Процитирую:
«Передо мной распоряжение администрации Брянской области №679 ПР от 19 июня 1992 года о мерах по разработке программы стабилизации экономики области. Это месячной давности документ. Процитирую только четвёртый пункт:
„Начальнику отдела оргпрогнозирования совместно с областным координационным советом движения ‚Демократическая Россия‘ докладывать мне о ходе работы над программой“.
Это решение свидетельствует как раз о том, о чём здесь сокрушались — о сращивании, подмене государственного аппарата, но делают это, как видите, отнюдь не коммунисты»29 .
Уже после августовских событий новыми властями была проведена ревизия финансов Брянского горкома, согласно которой было установлено, что в Брянске государственные средства на нужды партии не использовались, имущество безвозмездно не передавалось. Помещения, ранее принадлежавшие партии, для социальных нужд не использованы. Они отданы биржам и коммерческим структурам30 .
Схожим образом охарактеризовал ситуацию второй секретарь Василеостровского районного комитета КПСС г. Ленинграда, С. Н. Петров. Участия не принимали, Указы выполняли, из здания райкома их выбросили сразу после путча с помощью автоматчиков и без санкции прокурора.
Самым интересным в показаниях Петрова было то, как во время их дачи на него давил судья Аметистов, упрекавший свидетеля, что тот недостаточно серьёзно относился к положению об «антиконституционном» характере ГКЧП. Петров якобы должен был стыдиться того, что законно избранный Президент призывал к противодействию, а партия в целом и Петров в частности по сути самоустранились от происходящего. Хорошо хоть эту отповедь оборвали иные судьи31 . Секретарь Василеостровского райкома также признался в уничтожении документов в ночь с 22 на 23 августа по инструкции от одного из работников обкома32 . Но в целом обком и Гидаспов лично ни о чём их не информировали и прямых указаний не давали, а потому райком бездействовал. Целей сорвать забастовку, к которой призывал Борис Ельцин, у райкома не было. Люди сами никуда не пошли. Это, кстати, было ещё одним обвинением: ведь Ельцин призывал к общенациональной забастовке против ГКЧП, но население отреагировало предельно вяло. За этим ведь тоже видели «козни обкомовцев».
С принадлежностью к КПСС или КП РСФСР райком не определился, так как банально не успел решить этих организационных тонкостей33 .
Очень долго и с особым пристрастием шёл опрос свидетеля А. Н. Мальцева — первого секретаря Нижегородского обкома КПСС, члена Секретариата ЦК КПСС и ЦК КП РСФСР, на момент процесса — сопредседателя СПТ. Но крутилось всё в основном вокруг событий 19−20 августа и того, кто где в Секретариате был в то время, что говорил и за что отвечал. О региональных делах было не так много.
Мальцев открыто признал, что считал закон о департизации на момент его принятия незаконным, но, тем не менее, был вынужден организовать мероприятия по его проведению. Отделение КПСС тогда стремилось избежать конфронтации даже с экстремистами из «Демократической России». Нижегородский обком выразил поддержку ГКЧП, но сам А. Мальцев был от этого решения отстранён, так как не входил в бюро обкома. Довольно странно звучит, что секретарь горкома областного центра не входил в бюро обкома партии, но на суде вопросов к этому не возникло. Поехав в Москву как член ЦК, он обнаружил, что этот орган уже ничего в партийной жизни не решает. Вернувшись в Нижний Новгород, уже застал прекращение деятельности организации34 , хотя сам А. Н. Мальцев знал от членов горкома, что основная масса членов партии, особенно в рабочих районах, ГКЧП поддерживают35 .
В процессе опроса было установлено, что местное отделение КГБ дистанцировалось от партии и не предоставляло никакой информации ни по официальной линии, ни в личных беседах сотрудников аппарата с отдельными представителями ведомства36 . На вопрос судьи Морщаковой о самороспуске ЦК КПСС свидетель факт этого самороспуска отрицал, так как такими полномочиями обладает только сам ЦК: Горбачёв не имел на это прав, а призывы О. Лациса поддержаны никем не были37 . Факты уничтожения партийных документов в Нижнем Новгороде свидетелю неизвестны.
А. Н. Мальцев говорил, что никакой деятельности КПСС в Нижнем Новгороде после своего запрещения не вела — и тут он был не совсем откровенен. В своих мемуарах Осадчий упоминает о том, что полулегально горком КПСС Нижнего Новгорода дважды собирался для координации своей деятельности в условиях запрета38 .
Член Секретариата ЦК КПСС А. Г. Мельников в своих показаниях затронул тему неприязни между КПСС и КП РСФСР. Прежде всего он обвинял противников создания самостоятельной российской компартии в том, что они просто боялись новых, более демократичных порядков во внутрипартийной жизни39 . Этот же свидетель пролил свет на вопрос о том, стали ли автоматически все члены КПСС на территории России после создания новой республиканской структуры её членами. С точки зрения разграничения ответственности, к которой так стремилась команда Купцова, это было важно. И Мельников обосновал, что нет40 . В принципе, основной поток вопросов касался взаимоотношений между КПСС и КП РСФСР, но по итогам процесса всё это стало несущественным, ибо один из субъектов попросту исчез.
Очень резонансным было выступление в суде Роя Александровича Медведева, известного советского левого диссидента. Он был одним из тех инакомыслящих, кто принялся защищать компартию в тот период, когда её покинул даже собственный Генеральный секретарь. Это никак не повлияло на память о нём среди современных российских левых, ибо одни не прощают ему антисталинизм, другие — недостаточную радикальность, и все в итоге не считают его «своим». В принципе, это оправдано: ныне Р. Медведев всецело поддерживает В. Путина. Но тот факт, что он в конце перестройки был членом ЦК КПСС и одним из руководящих лиц в СПТ, делает его частью не только диссидентского движения, но и официозной истории партии.
Рой Медведев засвидетельствовал, что к 1990 году ЦК КПСС не обладал уже никакой реальной властью, никак не участвовал в законодательном процессе и не мог нести угрозы какого-то антиконституционного вмешательства41 . «Разбить» его показания решили просто гениальным образом — и пресса этот метод превозносила как нечто фантастическое. Сделали запрос поимённого голосования депутатов и выяснили, что… представители коммунистической фракции в Верховном совете голосовали одинаково42 . Да надо же! Вот это неожиданность! Партия контролирует работу своей фракции в парламенте. С ума сойти. Скорее в Суд, нарушена Конституция!
Факты ущемления советским государством своих прав в пору диссидентства Медведев нарочито отрицал43 , что срывало линию Макарова, Шахрая и Федотова. Зато он с удовольствием свидетельствовал о переменах в партии и её демократизации.
Наиболее детальные сведения о финансовом состоянии партии предоставил бывший управляющий делами ЦК КПСС, заведующий финансово-бюджетным отделом Н. С. Копанец. На момент суда, он, к слову, был вице-президентом акционерного общества «ГОСКО». Скорее всего, это просто совпадение (нет).
Допрос Копанца шёл несколько дней — настолько спор вокруг этих вопросов был ожесточённым. И я напомню почему.
Основное обвинение против компартии заключалось в том, что КПСС была не партией, а госструктурой. Её сращивание с госаппаратом эмпирически прослеживается по двум магистральным линиям: общность имущества и фактическое подчинение государственных органов партийным. Причём президентской стороне нужно было доказать, что на момент издания антикоммунистических Указов, в августе 1991 года, такая ситуация всё ещё сохранялась и угрожала конституционному строю, потому что более ранний период признал и осудил сам XXVIII Съезд.
Копанец с порога предоставил отчётность по своему предыдущему месту работы.
К моменту запрета КПСС имела два устойчивых источника доходов: членские взносы и издательская деятельность. Две этих позиции занимали 99% в структуре доходов последних перестроечных лет, причём за счёт взносов финансировалось порядка 80−90% расходов. В связи с этим все эти сомнения в духе «такая большая партия не могла жить на одни только членские взносы» оказываются несостоятельны.
У КПСС также были сбережения в размере 7,7 млрд рублей, но никак не мифические сотни миллиардов. Из них 5 млрд были на текущих счетах, ещё 2,7 млрд были в обороте — вложены в банки или какую-либо коммерческую деятельность. Легально. В собственности государства, по сведениям Н. С. Копанца, сейчас находятся эти 5 млрд рублей, в том числе деньги, которые по партийной линии были выделены на реабилитацию жертв Чернобыльской катастрофы (по показаниям Шинкарёва — в Брянской области они были изъяты новой властью и из рук руководства РФ до жертв так и не дошли) и средства местных отделений, которые были в их распоряжении.
На 1 января 1991 года в оперативном управлении КПСС находилось фондов на 5,2 млрд рублей. Это здания, служебные автомобили, печатные станки и т. д., причём здания составляли 60 % от этой суммы. Все эти фонды находились на территории бывшего СССР, никакой собственностью за границей КПСС никогда не располагала. Что касается зданий, то инвентаризация установила, что 71 % от общего их числа были возведены исключительно за счёт средств КПСС, и только 29 % — на государственные средства или с долевым участием государства. Более того, ещё в 1981 году, до перестройки, ЦК КПСС стал запрещать партийным структурам безвозмездно получать имущество от других хозяйствующих субъектов. В 1986 году эти меры были усилены. Управление делами ЦК КПСС расценивало подобное приобретение имущества как «поборы».
Коммерческую деятельность КПСС вела открыто и в рамках закона. Начала она её вести в связи с дефицитом бюджета, вызванным оттоком людей из партии: бюджет на 1991 год был свёрстан с дефицитом в 1,1 млрд рублей, который пришлось компенсировать из запасов. По расчётам, накопленных средств при таких темпах роста дефицита бюджета хватило бы на два-три года, и к 1993−1994 годам КПСС просто бы стала банкротом. Что касается «тайных счетов» и прочей «подпольной экономики», то это всё были проекты отдельных инициативных лиц, оставшиеся на стадии записок, — некоторые люди действительно считали, что нужно разработать планы на случай запрета партии и ухода в подполье. По версии Н. С. Копанца, наложив эти неосуществлённые проекты на факт реального участия КПСС в коммерческой деятельности, некоторые и собрали у себя в голове причудливую картину какой-то теневой партийной экономики. Доходы, которые всё же успела получить партия, были относительно скромными: 72,8 миллиона рублей, что несравнимо со взносами.
Никаких счетов в инвалюте у КПСС не было вплоть до 1 января 1991 года. Коммунисты, работавшие за рубежом, сдавали валюту государству, а государство возмещало за них сумму взносов в рублях. Если КПСС требовалась валюта, она должна была просить её у государства, но с условием возместить эквивалентную сумму в рублях. К 1991 году же КПСС добилась возможности самостоятельно собирать взносы в валюте с работающих за границей. Есть ещё ряд вопросов, связанных с поддержкой зарубежных компартий, но это уже была не компетенция управления, в котором работал Копанец, и в бюджете эта деятельность вообще не отражалась.
Разговоры об «объедании» государства, сирот, пенсионеров и кого-то ещё — всё это была просто глупость. С 1976 года КПСС не получала денег от государства. До этого же партия в течение 11 лет периодически получала от государства некоторые денежные суммы, но они в общей сложности составляли 3,3 % (!) от доходной части партийного бюджета. Более того, за период 1988−1990 гг. партией в безвозмездном порядке передавалась в пользу государства различная недвижимость44 .
Правда, уже на вопросах судей Копанец проявил неуверенность. Например, он не смог точно сказать, на что именно направлялись средства, выделенные для коммерческой деятельности, на какие конкретно её виды. Копанец заявил, что не владеет этой информацией, а единственный случай, который ему известен, — проект совместного коммерческого предприятия с Компартией ФРГ, который так и не успели осуществить45 . Честно говоря, звучит весьма неожиданно.
Но Копанец точно подтвердил слова В. А. Ивашко о том, что предприятие на базе Московского горкома, утверждённое замом Генсека, было согласовано, но так и не было создано46 . Бывший управляющий делами отказался отвечать на вопросы, связанные с деятельностью других отделов, ограничившись тем, что через бюджет их расходы не проходили. Точнее, говорил он, эти отделы могли тратить на свою деятельность какие-то средства, но «это точно были не средства самой КПСС»47 . И вот эту банальную по своей сути информацию: «а где же тогда самая полная, итоговая смета со всеми позициями?» — судьи и президентская сторона пытались «выбить» из свидетеля в течение почти суток опроса. Если у вас когда-нибудь появится такая возможность, загляните по приведённой сноске, и вы обнаружите просто иезуитский по своему искусству диалог Копанца и Судьи Морщаковой48 . Так уходить от вопроса надо уметь.
Президентская сторона уцепилась за эти слабости: за то, что ряд отделов осуществлял свою деятельность вне рамок общего бюджета, за вопросы инвентаризации и гласности бюджета организации, перевода с баланса на баланс. Последнее было особенно острым в связи с тем, что по итогам инвентаризации КПСС признавала «своим» любое имущество, у которого не нашёлся собственник, владевший им до подписания документов, которые прямо свидетельствовали о постановке на баланс. Но тут доходило до смешного: а кому принадлежит, например, Смольный, захваченный в 1917 году?
Во время допроса Копанца произошла очень показательная ситуация. В. С. Мартемьянов прервал серию вопросов Макарова и заявил, что сомневается в подлинности документа, который на тот момент обсуждался. В частности, на документе стоял устаревший штамп.
Как вы помните из прошлой части, с процессуальным правом у Конституционного Суда были особые отношения. И Валерий Зорькин прямо заявил, что Суду безразлично, при каких обстоятельствах получены те или иные документы, предъявить Суду можно что угодно, а Суд дальше посмотрит. А ещё раньше коммунистическая сторона сделала заявление, что Президент РФ, будучи ответчиком по одному из ходатайств, вместе с тем целиком и полностью владеет всей документацией и сам решает, что показать Суду, а что утаить. Вот 23 июля и представилась возможность посмотреть, как это работает конкретно на заседании.
После заявления Мартемьянова Суд удалился для обсуждения, а по возвращении согласился, что документ и вправду вызывает сомнения, но опрос продолжится. На возражения адвоката с коммунистической стороны Зорькин отрезал, что разговор закончен49 .
А Копанец, стоит думать, и не мог помнить каждую бумагу в документообороте за многие годы. Подсунуть ему что-то противоречащее его позиции и заставить всерьёз оправдываться было очень просто. Хотя нельзя исключать и того, что бывший управляющий делами и впрямь был не до конца откровенен, продолжая покрывать партию даже после её смерти.
В пользу последнего говорил документ от 5 августа 1991 года «О собственности КПСС». Составлен он был зав. сектором гуманитарного отдела ЦК, но самое интересное, что он Михаилом Горбачёвым был адресован на исполнение Н. С. Копанцу. В документе прямо говорилось об угрозе изъятия имущества, о необходимости продать «сомнительное» имущество, о спасении этих средств в виде активов предприятий и коммерческих структур… Судья Гаджиев после прочтения даже иронически спросил:
«Что, готовились?»
Управляющий делами мог лишь слегка растерянно пояснить, что бродило много таких «безграмотных» проектов, но даже с резолюцией Михаила Горбачёва хода в его ведомстве они не получали50 .
А может быть, и получали, но это уже наши личные домыслы. А вообще, этот документ вызывает подозрения: с чего бы сокрытием имущества КПСС на случай запрета озаботился Горбачёв? Вот уж кто точно не был замечен среди благодетелей партии.
Допрос Н. С. Копанца вызвал целый ворох новых вопросов, для разрешения которых Суд решил пригласить бывшего Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва, управляющих другими отделами ЦК КПСС, А. Н. Яковлева, бывшего Председателя Совмина СССР Н. И. Рыжкова, бывшего председателя КГБ Крючкова и прочих. Но опросят их — тех, кого смогут, — много позже.
30 июля перед Судом предстала Людмила Степановна Вартазарова, секретарь Октябрьского райкома г. Москвы, с декабря 1990 г. — одна из секретарей Московского горкома. На момент процесса — соучредительница Социалистической партии трудящихся.
По её показаниям, О. Лацис (см. ниже) вводил суд в заблуждение, утверждая, что государственному перевороту предшествовала попытка внутрипартийного. Совещание партийных организаций городов-героев не было предвестником переворота в стране. Напротив, его рекомендации предотвратили вынос вопроса о руководстве партии (читай — об отказе Горбачёву в политической поддержке) на Пленум и утверждали, что необходимо отложить это до XXIX Съезда. Из этого следовало,что утверждение Лациса несостоятельно51 . Сергей Шахрай в противовес этим показаниям продолжил ссылаться на совещание партийных организаций городов-героев в Смоленске, которое якобы от лица консервативной части партии потребовало скорейшего созыва Съезда через нарушение уставного избирательного процесса, дабы Пленумы обкомов, как структур, наиболее свободных от «заразы», избрали ограниченное число делегатов. Вартазарова парировала это утверждение тем, что всякий Съезд — избирательная кампания, а обстоятельства готовящегося созыва XXIX Съезда были таковы, что медлить было нельзя: в стране был кризис. Именно с этим Вартазарова связывала такую упрощённую процедуру, не видя в ней ничего криминального52 . Более того, один из членов Секретариата ЦК КПСС позже засвидетельствует, что на подобном порядке избрания делегатов нового Съезда настоял сам Михаил Горбачёв53 .
Относительно событий ГКЧП в отношении Вартазаровой со стороны представителей Президента и депутатов-антикоммунистов была применена стандартная тактика. Её использовали против большинства свидетелей, которые в августе 1991 года занимали партийные посты. Их бездействие выставлялось преступлением.
Что значит «мы не поддерживали ГКЧП»? Этого мало! Президент России, законно избранный, между прочим, дал указание противостоять перевороту! Почему вы не были на баррикадах? Что вы сделали во исполнение Указов?..
Это в наши времена, когда рейтинг одобрения ГКЧП в ретроспективе выше, чем у действующей власти, такие вещи читать смешно. А по тем временам это было серьёзное обвинение. Люди, которые требовали, чтобы партийные функционеры перестали быть должностными лицами, спрашивали с них, как с должностных лиц!54
Правда, часть этого из стенограммы вырезали. Например, то, как Сергей Шахрай давил на свидетеля вплоть до того, что Председатель Суда был вынужден вмешаться. Да, упоминаемые нами ранее «цензурные изъятия» в официальном издании стенограмм не исчезают и на этапе опроса свидетелей55 .
Из примечательных вещей, связанных с внутрипартийной жизнью, в показаниях Людмилы Вартазаровой можно выделить немногое. Например, она упомянула, что к концу Перестройки М. С. Горбачёв окончательно потерял доверие у рядовых коммунистов и вызывал однозначное неприятие56 . Вроде бы предсказуемая банальность, но историку её доказать непросто, а потому и свидетельство это — значимое. Ведь внутрипартийные социологические опросы — нечто диковинное, а решения партийных форумов слабо подходят для выявления настроения рядовых членов партии: тут зачастую играли роль не личные симпатии и антипатии рядовых коммунистов, а политический расчёт, ибо долгое время быть с Горбачёвым в одной лодке было выгоднее, чем без него. Вартазарова привела и примеры того, как ещё до XXVIII Съезда партии первичным отделениям удавалось накладывать взыскания за неисполнение партийных обязанностей на членов ЦК КПСС. Тоже не самая банальная вещь57 .
Стоит упомянуть и свидетельство о Борисе Ельцине как руководителе Московского горкома партии. Немногие подчинённые по партии оставили о нём воспоминания, но по тому, что у нас есть, можно сделать вывод, что не все они «парадные». Л. С. Вартазарова рассказала, что секретарю Московского горкома КПСС как никому другому был присущ крайне авторитарный стиль управления и фактическое неприятие новых, «перестроечных» порядков деятельности партии58 . И так показалось не ей одной: Юрий Прокофьев тоже вспоминал Ельцина как руководителя грубого, обладающего авторитарными замашками и раздутым самомнением59 .
В тот же день опросили Гайворонского Валентина Алексеевича — члена ЦК КПСС и его Секретариата с 1990 года. В своих показаниях Гайворонский пояснил, что смог быстро пройти путь от электросварщика до члена ЦК КПСС благодаря Перестройке, а в высшие органы партии пошёл, дабы продвигать линию первичных организаций, с работой которых был хорошо знаком, а не наоборот — чтобы линию ЦК проводить в местных органах.
Кстати, Гайворонский не один такой. Если пробежаться по биографиям основной массы «партийных» свидетелей с обеих сторон, независимо от ранга, можно заметить, что ветеранов партии среди них почти не было. Большинство сделало умопомрачительную карьеру в сжатые сроки 1989−1990 гг. — либо от беспартийного до секретаря горкома, либо от секретаря горкома или обкома до ЦК. Это могли быть люди вроде Роя Медведева, попавшие на самый верх КПСС вовсе откуда-то «сбоку», по приглашению, а могли быть и люди «от сохи».
По-видимому, это была вполне целенаправленная кадровая политика. И не думается, что она принесла хороший эффект. Ведь именно таких неопытных людей Горбачёву было легче всего водить за нос.
По словам Гайворонского, М. С. Горбачёв после введения поста Президента СССР отстранился от партии, общался с однопартийцами только через записки и даже кабинет свой в здании ЦК полностью покинул. Ни о каких отчётах о его деятельности речи даже не шло, Генсек вообще не считал нужным кому-либо что-либо объяснять. Даже Политбюро более не созывалось.
Обеспечив «широчайший демократизм» для страны, самый главный «демократизатор» в коллегиальных органах и критике более не нуждался. Не нуждался он и в учёте мнения рядовых коммунистов60 .
Характеризуя ситуацию, Гайворонский произнёс довольно удачную фразу:
«Так я понял, что мы стоим на пороге — и одной ногой уже его перешагнули — на пути к созданию нового, к сожалению, очередного вождя»61 .
По вопросу разграничения ответственности высших партийных органов и первичных отделений Гайворонский пояснил, что, согласно новым изменениям в Уставе, решения исполнительных органов КПСС вроде Секретариата были для первичных отделений не обязательны. Обязательными оставались только решения партийных форумов.
Очень важной является часть его показаний, связанная с вопросом о вмешательстве КПСС в дела государственного управления после отмены 6-й статьи Конституции. Гайворонский заявил, что много не характерной для политической партии информации от государственных министерств и ведомств продолжало поступать в ЦК по инерции. Однако на основании этих данных ничего не предпринималось.
Тоже, на наш взгляд, замечательно найденные слова. Они характеризуют то, как на ситуацию в стране смотрели из ЦК КПСС. Когда А. М. Макаров спросил, почему даже в 1991 году МВД предоставляло служебную информацию ЦК КПСС, Гайворонский ответил:
«Видимо, МВД предполагало, что КПСС ещё обладает какой-то реальной властью»62 .
Куда более здравым свидетелем был Анатолий Викторович Крючков — один из организаторов Марксистской платформы в КПСС, непродолжительное время бывший членом ЦК КП РСФСР. С ноября 1991 года возглавлял РПК (Российская партия коммунистов), которая впоследствии пойдёт на слияние с РКРП. Собственно говоря, длительное время использовавшаяся аббревиатура РКРП-РПК идёт оттуда.
Самое примечательное в его показаниях — оценка, которую он дал внутрипартийной ситуации тех лет как человек, стоящий на марксистских позициях. По его мнению, партию довольно долго «ломали» с намерением превратить в социал-демократическую организацию, способную стать опорой для власти Михаила Горбачёва — но безуспешно. Более того, по его словам, продемонстрировав иммунитет к подобным «новациям», пусть и через расколы, КПСС имела все шансы на XXIX Съезде сбросить реформистское руководство и занять более радикальную позицию. По его мнению, именно для недопущения этого новое российское руководство избавилось от партии, использовав ГКЧП как повод63 .
Крючков также заострил внимание на том, что вопрос о «всевластии секретарей» на предприятиях и учреждениях намеренно раздувается. По факту, говорил он, секретарь парторганизации был бессилен, если его намерения идут вразрез с намерениями администрации64 . Правда, один из свидетелей со стороны Президента РФ, имевший опыт работы секретарём райкома, был иного мнения: он утверждал, что партком всё же обладал на предприятии определённой властью и мог саботировать решения директора предприятия. Потому, говорил он, вывести парткомы за пределы предприятий было «просто необходимо»65 . Если задуматься, доля правды тут есть: сложно было бы представить себе все спекуляции, предшествовавшие большой приватизации, если бы на предприятиях все ещё существовали парткомы. Какова же была их реальная власть в советский период и как она менялась по ходу реформ, мы, по-видимому, сейчас сказать не сможем.
Анатолий Крючков также подтвердил преследования уже новых коммунистических организаций и их членов на основании президентских Указов66 .
Довольно скромная роль в данном политическом процессе, но далеко не последняя на таких мероприятиях в принципе. Уже на излёте 1990-х Анатолий Крючков станет известен как адвокат по политическим делам и основатель Движения в защиту политузников-борцов за социализм. LC ещё напишет об этом, и дело КПСС — тоже штрих к этой картине.
Ещё одним свидетелем со стороны КПСС стал Ю. П. Белов — один из последних (по времени) секретарей ленинградского обкома КПСС. Неожиданно, что Белов был одним из немногих свидетелей со стороны партии, рискнувших в своих показаниях начать с периода «застоя». Он отметил, что тихое, подковёрное размежевание на сторонников и противников будущей перестройки началось задолго до того, как вообще это слово появилось в политическом лексиконе67 . Потому, говорил он, разговор о каких-то «структурах вообще» беспредметен: единство партии было «дутым», она не была монолитна уже в те далекие годы.
Также Белов засвидетельствовал тот факт, что Ленинградская партийная организация в 1990 году признавала переход к многоукладной экономике неизбежным и ничуть не собиралась препятствовать ему, как утверждает президентская сторона. Но на чём организация стояла непоколебимо, так это на позиции «жёстко регулируемого рынка» и недопущения ущемления социальных прав основной массы населения68 .
Также свидетель вкратце осветил деятельность организации по попытке спасти советский конституционный строй и территориальную целостность государства. Собственно говоря, это уже безынтересное чтиво, ибо эти люди болеют данным недугом до сих пор. Утрата строя по существу их и по сей день не беспокоит так, как границы на карте.
Оборотни
Первым свидетелем со стороны президента и депутатов-антикоммунистов стал Отто Рудольфович Лацис, бывший заместитель главного редактора журнала «Коммунист», а также член ЦК КПСС с 1990 года. Вспомните, что говорилось выше про целенаправленную кадровую политику Горбачёва!
Лацис утверждал, что процессы демократизации осуществлялись под давлением снизу, а КПСС плелась в хвосте событий, ибо объективно сохранять прежние порядки в стране было уже невозможно69 . При этом, по его словам, к XXVIII съезду внутри партии уже нарастала политика «реванша», аппарат отошёл от ошеломлённости по поводу действий Генсека70 . Уже на самом Съезде, по наблюдениям Отто Рудольфовича, четверть делегатов была реформаторами, четверть «консерваторами», а половина — болотом, которое колебалось, но скорее склоняясь в сторону консерваторов71 . Эти показания сходятся с мнением марксиста Анатолия Крючкова. По-видимому, партия действительно дрейфовала к отказу от реформизма. Тут можно вспомнить и то, что из КПСС в конечном счёте вышла более ортодоксальная фракция, чем из КП РСФСР.
Остальная речь О. Лациса была посвящена тому, как консерваторы в партии душили реформаторов и как им бы это удалось, если бы не путч72 . В связи с этим, в общем-то, Лацис с небольшой группой членов ЦК и призывал к самороспуску партии. Реформистские идеалы в ней потерпели поражение, остались догматики, а политическую ответственность за произошедшее партия несёт — значит, говорил он, надо распускаться, всё равно ничего дельного из партии не выйдет. Как вы понимаете, ни о какой идеологии речь и не шла. Само упоминание об этом уже смешит. Что делать коммунистической партии в разгар контрреволюции? Самораспуститься, конечно же.
Лацис также отметил, что КПСС давно уже готовилась «овладеть ситуацией», и создание в Прибалтике «комитетов спасения» было апробацией таких методов для Союза в целом73 . В качестве доказательства Отто Рудольфович указывал на уже упомянутое совещание парторганизаций городов-героев, которое по уставу КПСС чуть ли не имело право на созыв чрезвычайного Съезда74 и высказывало идеи в духе «спасения социалистического отечества»75 .
Интересно, что в ходе опроса Лацис пытался сформулировать, почему он, как человек воспитанный на «Кратком курсе истории ВКП(б)» и с искренней верой в социализм, вдруг стал разочаровываться в партии и перешёл на позицию реформ. По его собственному признанию, ключевым моментом стали события 1968 года. Уже в то время Лацис стал задумываться о том, что есть две партии — «наша», из рядовых членов КПСС, и «их», партаппаратчиков76 .
Это, к слову, не единственное подобное мнение. Уже упомянутый советолог Стивен Коткин тоже соотносил Перестройку с вхождением во власть разочаровавшегося поколения «шестидесятников». Но мало констатировать это. Требуется ещё и найти причину.
Феликс Рудинский воспоминал этого свидетеля так:
«В смысле социально-психологическом в облике О. Лациса можно выделить типичные черты известной части столичной „элитарной“ интеллигенции. Из этой среды вышли Гайдар, Явлинский и другие, далёкие от интересов народа, работающие в престижных московских НИИ, журналах, имеющие свободный выезд за границу и доступ к цековским привилегиям, они преданы правящей элите и готовы служить ей всегда и независимо от того, прикрывается ли она псевдо-марксистскими ширмами или отбрасывает их. Иногда эти лица выступали и в роли фрондёров, но это только повышало их престиж в глазах мещанской публики»77 .
Опрос этого свидетеля был совершенно безблагодатным для процесса. Про финансовые дела структуры Лацис не знал, про какие-то планы переворота и смещения Горбачёва — только догадывался. Говорил в основном про времена своей журналистской работы в застойные годы. Даже вопросов у сторон к нему толком не было. Создавалось ощущение, что Лацис был приглашён только потому, что был, выражаясь современным языком, «медийной» фигурой, ведь когда такой человек выступает с президентской стороны, это хорошо для рейтингов. А что до того, несла ли компартия в августе 1991 года какую-то угрозу, по мнению Лациса, повинна она была лишь в том, что стала самоочищаться от реформаторов, подобных ему.
Следующим был В. П. Леонтьев, на тот момент директор издательства «Пресса» — того, во что превратилось издательство «Правда». Показания такого свидетеля сами по себе вызывают большие сомнения: если бы КПСС восстановили в правах, в том числе и имущественных, издательство сменило бы собственника обратно, и директор лишился бы своего поста. Впрочем, по поводу процессуальных моментов уже было написано достаточно.
Свидетель вскрыл новые факты того, что после отмены 6-й статьи ряд процессов, связанных с государственными издательствами, продолжал идти через ЦК КПСС. В принципе, нарушение, допустимое для переходного периода, — но Леонтьев настаивал, что в краткие сроки такие вещи преодолеть нельзя: система контроля за прессой якобы была слишком крепко вмонтирована в партийный аппарат. Хотя это было уже его субъективное мнение, но в статус эксперта его Суд не перевёл78 .
Интересными были и те темы, которые свидетель раскрыл через вопросы Сергея Шахрая. Здесь Леонтьев рассказал, что трижды присутствовал на неформальных совещаниях ЦК КПСС, основной темой которых была возможная «экспроприация» имущества партии в пользу государства. Там, по его словам, обсуждались различные способы сохранения материальной базы для деятельности КПСС после запрета. Но всё это было неформально и без протокола79 . По итогам совещаний якобы было создано «некое общество МАТЭКА» (открытое, закрытое? Правильно ли передана аббревиатура?), которое должно было объединить под своим крылом все партийные издательства, но, по свидетельству Леонтьева, не в полном объёме80 .
Тут я должен отвлечься и немного сказать об этом свидетельстве. Никакой информации про общество МАТЭКА мне найти не удалось. Да и сомнительно выглядит свидетельство о том, что подобное общество на 1992 объединяет какие-то бывшие партийные издательства: «Политиздат» стал «Республикой», издательство «Правда» (не путать с самой газетой) стало «Прессой»… Есть лишь одно бывшее советское издательство, которое и в 1990-х прочно ассоциировалось с официальной компартией. Быть может, в наше время это уже не совсем очевидно, но те, кто работает с литературой из 1990-х, должны меня понять.
Если берёшь в руки книжку какого-то почвеннического, антиперестроечного, красно-коричневого содержания, то она, скорее всего, произведена на мощностях издательства «Молодая гвардия». Публицистика в духе красного державничества, парадная биография Г. А. Зюганова, вообще большинство книг из-под пера Г. А. Зюганова и людей из состава ЦК КПРФ… В самом издательстве, в материалах к его 95-летию, рассказывается официальная история происхождения такой ориентации. Согласно этим материалам, точнее воспоминаниям гендиректора Валентина Юркина (кстати, бессменного), в девяностых КПРФ защитила предприятие от рейдерского захвата, а в ответ получила лояльность к себе.
Но в свете показаний Леонтьева эта история кажется неполной. На это указывает и то, что откровенно прокоммунистические заметки Майкла Дэвидоу были сданы в печать на мощностях «Молодой Гвардии» ещё в 1992 году, причём тиражом аж в 30 000 экземпляров. Никакой КПРФ тогда ещё не было, КП РСФСР реорганизуется только в феврале 1993. Может, речь о «Молодой гвардии» и шла?
Ещё одним свидетелем был редактор-консультант телекомпании «Останкино», а ранее — работник центрального аппарата Главлита СССР В. А. Солодин. Во время дачи показаний Солодин сам себя характеризовал как непримиримого противника советского строя (тридцать лет проработав в центральном аппарате главного цензурного ведомства!), но, что необычно, этой линии выдержать в ходе опроса не смог.
Солодин рассказал о множественных случаях прямого управления Главлитом со стороны отделов ЦК КПСС. Характерно, что и он отметил «коренной перелом» в сторону «ресталинизации» общества именно после 1968 года. В 70-х — начале 80-х годов только по центральному аппарату Главлита снималось с печати по 400 произведений в год. Цензурным изъятиям подвергалось и того больше. Правда, не был уточнён общий объём проходивших произведений.
Многих инструкций от ЦК КПСС у Главлита не осталось, потому что решения никак не оформлялись — всё делалось по телефону, что могло создавать иллюзию самостоятельной деятельности этой структуры. Солодин отметил и то, что деятельность Главлита была направлена не только на политическую цензуру, но также на недопущение разжигания национальной розни, распространения порнографии, пропаганды религии и т. д.81 Характеризуя свою деятельность в целом, Солодин был вынужден признать, что она была обществу полезна и на тот момент полностью законна, хотя некоторая двойственность в её оценке у него начала появляться после подписания СССР Хельсинкских соглашений. Это довольно неожиданная ситуация: прямо в зале Суда человек под напором наводящих вопросов и фактов был вынужден признать свою неправоту.
В целом его показания также были о «былом», в то время как дело было про антиконституционность партии с августа 1991 года. А здесь ничем предосудительным с точки зрения Суда и не пахло. 14 марта 1990 года отменена 6-я статья, 12 июня 1990 года отменена цензура, после этого закона Главлит СССР перестал выполнять политические функции. Так и не найдя себя в новой системе власти, 1 июля 1991 года структура была ликвидирована82 . К неудовольствию президентской стороны, КПСС оставила всякие цензурные поползновения в 1990 году и никогда к ним более не возвращалась.
Очень тяжёлый удар по позициям коммунистической стороны нанесли показания представителя Президента по Тверской области Виктора Ивановича Белова. В советское время он был старшим следователем в ряде регионов РСФСР. Безрадостность его показаний заключалась даже не в целом ворохе коррупционных случаев, в которые были вовлечены партийные фигуры вплоть до секретарей обкомов: благодаря перестройке такие факты стали мелочью жизни. Главной новостью стала повальная практика «диктата» со стороны обкомов КПСС органам прокуратуры, а через них и следователям, в вопросах о закрытии уголовных дел, изъятии из них эпизодов и тому подобного.
Главное сражение между коммунистической стороной и этим свидетелем развернулось по линии того, относить ли подобную ситуацию к коррупции или же к государственной практике в целом. Свидетель стоял на последней позиции, и его слово было весомым, поскольку документально такие отношения никогда не оформлялись, да и не могли быть оформлены, ибо противоречили закону — а значит, противопоставить отчётам следователя коммунистам было нечего83 . Конечно, коррупционные связи тоже противоречат закону и никак не оформляются. Они могут оставлять следы в виде законных с формальной стороны правовых актов, но речи об оформлении взятки под расписку или официально оформленном отчёте перед человеком, который на то право не имеет, разумеется, не идёт. Но Белов был непреклонен: такие случаи являются свидетельством неконституционности КПСС и типичным для советского времени способом функционирования власти.
Впрочем, кое-что и тут пошатнуло позиции президентской стороны. Например, О. О. Миронов поинтересовался: не приходилось ли свидетелю сажать в тюрьму людей по инструкции из обкома КПСС? О закрытии дел в связи с «особыми обстоятельствами», исходящими из высоких кабинетов, мы услышали. Но какое же полновластие без преследования? В ходе серии вопросов выяснилось, что засвидетельствовать таких случаев В. И. Белов не может84 . Выходило, что осудить кого угодно партия всё же не могла, только оправдать.
Очень интересный диалог произошёл и между Виктором Беловым и Юрием Слободкиным. Помимо того, что это редкая возможность посмотреть, как реагируют друг на друга при личной встрече представитель Президента и член РКРП, он не лишён и практического содержания:
«СЛОБОДКИН Ю. М. Виктор Иванович, скажите, в течение скольких лет Вы состояли в КПСС и, как Вы выразились, находились под гнётом партии?
БЕЛОВ. В. И. Я называл эту цифру. Коротко говоря, четверть века.
СЛОБОДКИН Ю. М. Я вас поздравляю с тем, что Вы освободились от этого гнёта.
БЕЛОВ В. И. Спасибо.
СЛОБОДКИН Ю. М. Себя я тоже поздравляю, что мы теперь не имеем в своих рядах такого члена.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В. Д. Снимает вопрос представителя стороны Слободкина Ю. М. и предлагает ему задавать вопросы в корректной форме.
СЛОБОДКИН Ю. М. Вы сейчас занимаете должность представителя Президента по Тверской области, неконституционную должность, в Ваши обязанности вменено, в частности, контролировать исполнительную власть на местах. Вы не считаете, что тем самым Вы подменяете органы прокуратуры?
БЕЛОВ В. И. Вы, Юрий Максимович, видимо, недостаточно знакомы с Положением о представителе Президента, потому что формулируете не так, как там записано. Я не контролирую ни органы прокуратуры, ни органы суда и в их деятельность не вмешиваюсь. Но если ко мне обращаются граждане и говорят, что год они сидели под стражей и потом перед ними извинились — и до свидания. И это система. Я вынужден в таких случаях разбираться. Я обращаюсь к генеральному прокурору с тем, чтобы он навёл порядок. Я считаю, что иначе я поступать не могу. Я действую в строгом соответствии с законом. Я депутат. [На тот момент совмещать ещё было можно. — прим. В. П.]
СЛОБОДКИН Ю. М. Вы контролируете в соответствии с указанием исполнительную власть, не прокурора, не суды, а местную администрацию.
Председатель Суда ЗОРЬКИН В. Д. Юрий Максимович, этот вопрос связан с конституционностью КПСС?»85
И это, безусловно, меткое замечание, потому что Слободкин будто бы смотрел в будущее. Владимир Путин и тут ничего нового не создал: в зачатке все эти вещи, слабо соотносящиеся что с Конституцией тех лет, что с принятой 12 декабря 1993 года, уже существовали в 1992 году. И эволюция полномочий, связанных с данной должностью, будет только усиливаться до полного превращения в «око государево» на огромной территории — институт Полномочных представителей в федеральных округах. Хотя, казалось бы, всем обещали федерализм.
Ещё одним свидетелем стал Н. П. Медведев — народный депутат Российской Федерации, в прошлом — заведующий орготделом райкома партии, секретарь партийного комитета завода, затем заместитель председателя Саранского горсовета. Исключён из КПСС за практические действия по организационному и идейному расколу партии — и, что неожиданно, сам не отрицал, что вёл такую деятельность86 . Параллельно занимался научно-исследовательской работой по социологическому профилю. В результате исследований на девятнадцати предприятиях города Саранска обнаружил, что наибольшую политическую активность против организационных структур КПСС проявляли рядовые члены первичных отделений87 .
Показания Медведева были сильнее, чем у кого-либо с президентской стороны до этого, потому что Медведев располагал реальными фактами того, как секретари горкомов и райкомов препятствовали работе госаппарата. Свидетель довольно метко сформулировал мысль: покуда 6-я статья Конституции была в силе, партия употребляла своё влияние для содействия государственным задачам, а после этого шага она начала целенаправленную вредительскую политику, борьбу с государством и саботаж государственных решений вроде «департизации»88 . Правда, описывая свой конфликт с парткомами, свидетель и себя выставил не в лучшем свете. Единолично угрожать местному отделению КПСС запретом деятельности на тот момент тоже было далёким от права шагом.
Он показал, что отраслевые отделы в КПСС были ликвидированы лишь формально, а де-факто те же люди, переведённые в другой штат, выполняли те же функции, опираясь на прежние неформальные связи89 .
Эта история не совсем относится к делу, но интересен сам расклад. Медведев ставит в вину КПСС торможение принятия в Мордовии закона о частной собственности на землю: занимая ключевые посты в местных Советах, члены КПСС продавили закон, запрещающий её введение. Однако этот закон противоречил общероссийскому, противоречил воле Съезда. Неудивительно, что после августовских событий, когда люди, разделявшие линию ЦК КПСС, стали беспартийными де-факто, но формально ещё сохраняли места в Советах многих уровней, они предприняли меры к дальнейшему саботажу подобных законов. Была и неудачная попытка развязать себе руки принятием закона о суверенитете республики и верховенстве её законов над российскими90 .
Если принять это свидетельство на веру, то «суверенизация» субъектов самой Российской Федерации в постсоветскую эпоху начинает играть новыми красками. Национализм, оказывается, был только ширмой. Не новость для марксиста, но доказательство для неубеждённых.
К тому же возникает следующий неудобный вопрос: насколько общероссийские органы власти на тот момент действительно отражали чаяния большинства россиян, если даже в таких фундаментальных вещах между регионами и Москвой могли быть расхождения? Это уже способно поставить под сомнение легитимность политического режима в Российской Федерации не только в «узловых моментах» 1991, 1993, 1996 и т. д., но и процессуально, на всём протяжении первой половины 1990-х годов.
Одним из самых интересных свидетелей данного процесса стал Виктор Валентинович Иваненко. Наряду с Вадимом Бакатиным этот человек был архитектором современного нам ФСБ. В советское же время Иваненко был работником центрального аппарата КГБ, каких много. Затем стал «ренегатом», участвовавшим в создании Агентства федеральной безопасности Российской Федерации (АФБ РФ). Лично арестовал последнего руководителя КГБ СССР, своего бывшего начальника Крючкова. На сдачу — создатель службы безопасности РАО «Газпром» и одновременно один из руководителей нефтяной компании «ЮКОС».
Если основным вопросом процесса был спор о том, являлась ли КПСС государственной структурой, то свидетель затронул вопрос с другой стороны: являлся ли КГБ партийной структурой? Значительная часть его показаний была призвана проиллюстрировать, что КГБ был «вооружённым отрядом партии» и никакие перемены в политической системе всерьёз не влияли на функционирование Комитета государственной безопасности вплоть до самых последних лет. Комитет функционировал в соответствии с прямыми директивами ЦК КПСС и на основе регламентирующих документов, утверждённых партией91 .
Однако перемены в обществе в значительной степени разлагали органы государственной безопасности изнутри.
Самый большой удар по политическим настроениям внутри КГБ наносила информация о массовых репрессиях 1930-х годов. Это может звучать неожиданно для наших либеральных современников, которые привыкли мыслить категориями «меняются только названия, а „чекистская“ суть всегда едина», но это действительно так.
Сам Иваненко, объясняя свой отказ защищать социалистическую систему, говорил следующее:
«Мне приходилось немало работать с документами жертв репрессий 30−50-х годов. Изучение этих документов буквально перевернуло все мои представления о героическом прошлом органов государственной безопасности. Надо сказать, что работа по реабилитации оказала сильнейшее воздействие на очень многих сотрудников КГБ, заставила по-новому посмотреть на всю нашу работу»92 .
Интересно, способны ли на подобную переоценку ценностей современные сотрудники госбезопасности, или такое характерно только для «тоталитарных» советских структур?
Так или иначе, деморализованные открывшимися документами о массовых репрессиях, сотрудники КГБ уже сами более не были уверены ни в верности политического курса партии, ни в оценке собственной истории, ни в советском государственном строе, который должны были защищать. Ф. М. Рудинский во время вопросов свидетелю даже посмел заметить, что отчёты КГБ высшему руководству страны в самый последний период её существования носят прямо дезинформирующий характер, что Виктор Иваненко косвенно подтвердил93 .
В 1990−1991 годах, когда это стало возможным в силу закона и гласности, началось стремительное политическое расслоение среди работников КГБ. Иваненко отмечает, что, по его информации, более 70 % сотрудников выступали за департизацию ведомства. Только руководство и парткомы КГБ были той силой, которая продолжала удерживать Комитет от окончательного развала. Очень показательно, что для негласной поддержки Рыжкова как кандидата в президенты РФ от КПСС в КГБ пришлось организовывать штаб, существование которого держали в тайне даже от остальных сотрудников: ведомство целиком не просто отказалось бы этим заниматься, а могло и прямо помешать94 .
Большинство высшего руководства структуры было настроено «коммунистически консервативно» и считало создавшийся кризис временным отступлением до осени 1991 года, когда, по их заверениям, «что-то должно было произойти»95 . Также, согласно показаниям Иваненко, высшее руководство КГБ СССР оказывало противодействие созданию российской госбезопасности96 . В дни функционирования ГКЧП общесоюзный комитет безопасности также не бездействовал, вопреки общепринятому мнению: Крючков смог добиться от сотрудников отключения ВЧ-связи у российских руководителей и разослать на места шифротелеграмму, в которой требовал не подчиняться указам российского руководства97 .
Выходит, все вопросы о том, «где было КГБ в 1991 году?», для ответа не требуют увлечения конспирологией. Комитет к тому времени состоял из людей самых разных убеждений, но по большей части — из демократов, которые охотно толкнули социалистический государственный строй в пропасть. Эта структура стала не способна к сопротивлению в силу тотальной деморализации со стороны общественного мнения. И такое бывает.
У представителей сторон возник ряд вопросов к свидетелю, конкретизировавших как ряд событий августа 1991 года, так и работу структуры в целом. Последнее — в связи с тем, что слишком много в показаниях свидетеля было основано на тезисе «документов нет, но их и быть не может, ибо указания были неформально и по телефону».
Коммунистическая сторона постаралась затронуть тему люстраций. После событий августа 1991 года АФБ уволило более 70 руководителей главков и управлений. Коммунистов интересовало, есть ли основания считать, что это было сделано по идеологическим причинам, т. е. шла чистка структуры от оставшихся коммунистов? Сначала Иваненко, участвовавший в процессе этих люстраций непосредственно, сказал, что увольнения проходили «не только» по идеологическим причинам, однако уже на следующем вопросе признал, что конкретной вины за людьми в большинстве случаев не было. Их, сказал он, уволили в аттестационном порядке как «людей вчерашнего дня, которые не воспринимались коллективом органов». Причём речь шла только о верхушке структуры, в целом по ведомству цифр не было представлено98 .
Будь доступны документы, это была бы отличная тема для исследования. Ведь до сих пор есть люди, утверждающие, что России не хватило люстрации государственных структур. Да, мы уже говорили о том, что в массовом порядке они были невозможны, но имели место вот такие точечные меры в КГБ, МВД, Вооружённых силах. Эти меры практически не изучены — и весьма любопытно было посмотреть, в какую общую картину они складываются.
Однако помимо всего вышеуказанного «компромата», Иваненко дал и одно свидетельство, очень полезное коммунистической команде: ЦК КП РСФСР, в отличие от ЦК КПСС, никакого отношения к управлению КГБ не имел99 . Напомним, что коммунисты на процессе защищали именно КП РСФСР.
Абсолютно бесполезными для нашего материала были показания Евгении Альбац, которая свидетельствовала о сращении КГБ и ЦК КПСС, поскольку она… была журналисткой, которая печатала материалы на эту тему в Перестройку. В ходе процесса много кто прошёл через опрос судом — секретари обкомов и райкомов, руководители государственных структур, видные общественные деятели… И журналистка «Московских новостей», чья заслуга была лишь в том, что в те годы она была популярна.
Собственно, большая часть её показаний — это экскурс в историю российских спецслужб чуть ли не на глубину «красного террора» Гражданской войны. Редкий случай — Суд трижды прерывал свидетеля со стороны президента, потому что уставал это слушать, так как конституционность КПСС рассматривалась на момент издания Президентом РФ соответствующих Указов. По текущему же моменту у Альбац было очень немного фактов, зато достаточно оценочных суждений, причём самого низкого пошиба. Чего стоит только песнопение ФБР и ЦРУ как «правильным» спецслужбам, всегда работающим только в соответствии с правом.
Далее свидетельствовал Геннадий Владимирович Веретенников — народный депутат РФ, представитель Президента в Московской области. В прошлом — секретарь райкома, закончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС100 .
Крамольного из своего взаимодействия с КПСС, как внутри структуры, так и в качестве её противника, Веретенников вынес немного. Наиболее больными уколами для коммунистической стороны были показания о том, что КП РСФСР в его райкоме не отличали от КПСС как отдельную структуру, но считали просто «наиболее реакционной» частью КПСС101 . Также у него были сведения о поддержке ГКЧП Волоколамским горкомом102 .
В. Мартемьянов, исходя из показаний свидетеля, отметил, что в течение своей деятельности в качестве секретаря райкома Геннадий Веретенников сам действовал противоправно. На это свидетель возразил, что у него «не было выбора»: одно дело — какие-то там «законы», а другое — фактическое требование начальства103 .
Подобным ответом Веретенникова был особо возмущён О. О. Миронов, бывший заведующий кафедрой права в Саратовской партшколе. Ещё бы: человек, окончивший ВПШ при ЦК КПСС, должен был знать, что 6-я статья Конституции не только устанавливала руководящую роль партии — там ещё и содержались слова о том, что партийные органы действуют в рамках конституции, в рамках закона, а ещё там была фраза «КПСС существует для народа и служит народу». На ряд реплик, связанных с этой морально-этической стороной, свидетель ответил, что «это было для рядовых коммунистов»104 .
И не поспоришь с решением Президента Ельцина окружать себя именно такими людьми и их руками реформировать Россию. Результаты… впечатляющи. Мы имеем целую страну, в которой не то что Конституция, но даже отдельные нормативные акты действуют по принципу «это только для рядовых граждан».
Допрашивали и С. А. Ковалёва, известного диссидента и правозащитника, а на тот момент — народного депутата РФ. Он по большей части пересказывал свою биографию. Основная идея его выступления состояла из двух тезисов:
- ЦК КПСС, используя государство как посредника, давил на ООН, чтобы ни у кого не возникало вопросов о правах человека в СССР. Именно поэтому Советский Союз исправно подписывал все возможные декларации о правах человека, но отказывался от формирования контрольных механизмов. Это, так сказать, самое масштабное нарушение, имплицитно включающее в себя все отдельные проявления.
- Советская правовая доктрина приоритета прав на труд, отдых, бесплатное образование, бесплатное обучение — это ещё один механизм нарушения прав человека (!), потому что это подавление индивидуальных прав (на свободу собраний, печати, партий и т. д.) коллективными. Ковалёв и во время вопросов со стороны участников процесса заявил, что не относит «так называемые социально-экономические права» к правам человека «в прямом смысле этого слова»105 .
Второй аргумент — очень и очень современный: хоть и не прямым текстом, но современные либералы по сути только об этом и твердят. Они попросту выносят за скобки то, что, несмотря на минимум политических прав, советская система даже в самые суровые годы сохраняла за населением широчайшие социально-экономические права.
Сергей Ковалёв также предоставил конкретные цифры по политическим преследованиям. С 1966 по 1986 годы, за исключением 1976, по ст. 190 и 70 УК РСФСР были привлечены к ответственности 2468 человек. Но это, тем не менее, были старые данные тех лет без учёта лиц, чьи дела по факту были политическими, но были проведены через суд по общеуголовным статьям106 . Помимо профилактических бесед, правозащитник упоминал и о иных, вполне неиллюзорных средствах давления. Вместе с тем, он упорно отказывался признать, что правозащитное движение в СССР носило политизированный характер и работало на разрушение социально-политической системы.
Но всё это преданья старины глубокой. А в чём, по мнению Ковалёва, была виновна партия в последние годы, когда политические свободы были чрезвычайно широки?
В том, что не изменила отношения к правозащитному движению.
Это не шутка. Один из пунктов обвинения Ковалёва таков: амнистия правозащитников осуществлялась согласно постановлениям, в которых не было покаяния, извинений и т. д. И, о дерзость, при помиловании от каждого просили расписку, что более в подрывной деятельности он участвовать не будет!107 Это Ковалёв выставил как унижение — ведь люди вообще не считали себя преступниками, но их заставляли каяться.
Правда, по итогу оказалось, прокуроры не просили и этого. Просили лишь «написать хоть что-то, потому что „начальство просит“». И писали что-то вроде: «Никогда не был преступником». И этих людей всё равно отпускали. Тех, кто отказался, тоже отпустили. На год позже. Без всяких прошений.
Такие моменты в стенограммах «Дела КПСС» интересны даже не фактом своего наличия, а полным отсутствием когнитивного диссонанса у участников процесса что с той, что с другой стороны.
КПСС виновна. Виновна в том, что стремилась сохранить своё тотальное идеологическое господство. Что она обязывала людей разделять её идеи. Отойдя от власти, она оказалась виновна в том, что не подчинилась аналогичному требованию победителей.
Убивший дракона сам стал драконом! Причём речь о самой «благословенной» эпохе 1990-х и самых «святых» людях, бывших первыми апостолами либерализма.
С точки зрения марксиста тут нет вообще ни толики удивительного. Всё предельно закономерно. Но возникает вопрос к противной стороне: где, в таком случае, почва для возражения тому, что «ценности» могут быть только классовыми и никогда — общечеловеческими?
Кроме всего этого, Ковалёв привёл и просто интересный факт: в 1989 году, пытаясь устроить семинар под названием «КГБ и Перестройка», правозащитники столкнулись с необычным противником. Это был Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачёв. В ответе на докладную записку он написал:
«Это мероприятие надо сорвать»108 .
Сложно сие вписать в контекст общей деятельности Горбачёва по разрушению основ советского строя. По крайней мере, без детального изучения. Но согласно показаниям Ковалёва, такое имело место.
Показания суду также дал В. А. Лебедев. Народный депутат, бывший секретарь райкома в г. Кемерово, затем один из секретарей Кемеровского обкома партии. Участвовал в комиссии Верховного совета СССР, отвечавшей за расследование действий ГКЧП.
Вкратце, он говорил о том, что Секретариат знал всю правду, Политбюро всё одобрило, значительная часть обкомов, горкомов и крупных партийных ячеек — одобрили. Все всё одобрили, а потому оснований для оправдания партии нет. В доказательство этому он привёл документы Секретариата и заявления отдельных местных комитетов в ЦК, где зачастую не только одобрялись действия ГКЧП, но и давались пожелания действовать радикальнее и не медлить. Лебедев также рассказал о том, что журналы входящей и исходящей документации, где стояли резолюции секретарей обкомов, оперативно уничтожались после провала ГКЧП — и, вполне возможно, доказательств могло бы быть больше. На это Зоркальцев, правда, заметил, что это не более чем фантазии свидетеля109 .
У судей по существу возникло два резонных вопроса.
Во-первых, как это вы нашли эти документы, хотя Верховный совет СССР был распущен и расследование закончено, а прокуратура по поручению Президента РФ их не нашла? Или всё-таки заявление о поддержке не есть ещё преступление?
Во-вторых, собственно говоря, чему верить? Свидетели с президентской стороны упорно рассказывают, что партия была нереформируема и рядовые коммунисты никакого влияния на её политику не имели. В таком случае низовые ячейки КПСС не несут ответственности. Вы же в своей речи потребовали ответственности ещё и для местных отделений, не только для руководителей. Выходит, рядовые определяли курс на поддержку ГКЧП — или всё же в КПСС «снизу» никто ничего не решал?110 .
В этом плане президентская сторона действительно путалась. В ходе опроса со стороны судей также выяснилось, что документ Секретариата, согласующий действия ГКЧП, был фактически не оформлен, то есть на нём не стояло отметок, кто голосовал за, кто против, кто отсутствовал. Если кто и мог быть признан из-за него виновным, так это члены Политбюро111 .
Очень интересными были сведения, предоставленные Лебедевым относительно взаимоотношения Кемеровского обкома КПСС и местного рабочего движения, — если кто-то не в курсе, Кузбасс был одним из главных очагов забастовочной активности в распадавшемся СССР.
Вот что свидетель смог рассказать относительно того времени, когда ещё был секретарём одного из райкомов г. Кемерово.
По его показаниям, компартия была крайне деморализована началом шахтёрских забастовок. Привыкшая выступать от имени рабочего класса, КПСС и представить не могла, что придётся выступать и против него. Когда партия отошла от шока, она стала отменять какие-то меры взыскания против партийных, поддержавших движение, и идти на диалог, но уже вскоре взяла на вооружение двойственную политику раскола забастовки. Внешне создавалась благоприятная обстановка взаимодействия, но внутри аппарата начались нездоровые, по определению Лебедева, процессы.
Обком привлекал ресурсы МВД и КГБ для того, чтобы собрать компромат на лидеров движения. Также была попытка обкатать старую, восходящую ещё к 1917-му, к истории с ВИКЖЕЛем, тактику раскола движения, пытаясь выделить в нём пропартийную фракцию. При этом, по словам Лебедева, в движении изначально было много искренних коммунистов, и если бы партия не испугалась, она могла бы его возглавить112 .

Одним из последних свидетелей на процессе выступил Представитель Президента Российской Федерации по Томской области Сулакшин С. С. Тут не было ничего такого, что нельзя прочесть в иных показаниях. Начало речи весьма стандартное: КПСС срослась с государством и подменяла властные решения соответствующих органов, грубо вторгалась в их работу. Все факты приведены с документами, соответствующими ссылками. Но уникальность свидетельств Сулакшина в другом.
Во-первых, речь шла о «вотчине» Егора Лигачёва, а это уже само по себе чего-то стоит. Подробнее об этой личности мы поговорим в следующих частях, когда дойдём до его показаний. Пока ограничусь тем, что если и был коммунист-ортодокс, чьей крови хотела бы либеральная пресса, то это был именно Лигачёв.
Во-вторых, именно Сулакшин смог привести наиболее убедительные примеры продолжавшейся практики «сращивания» партии и государства после редакции Конституции. Впрочем, в ситуации Сулакшина это было несложно: когда у руля в регионе такой «консерватор», как Егор Лигачёв, не стоит даже сомневаться, что порядок управления будет сохраняться таким, каким он был в 1970-е, несмотря ни на что.
Сразу отметим, что все нарушения закона со стороны КПСС, что до отмены 6-й статьи, что после, этот свидетель обязательно пытался связать напрямую с Лигачёвым. Иногда эта связь была довольно сомнительна, иногда игнорировать её было и впрямь трудно. Но таково было время: любая новость о преступлениях коммунистов будет ужаснее, если будет упомянут Егор Лигачёв.
Из свидетельств Сулакшина выходило, что Томский обком КПСС был, по-видимому, самой «нонконформистской» структурой в стране. В августе 1991 года местное бюро обкома без всяких «но» объявило о поддержке ГКЧП и всех его мероприятий113 . Более того — и тут возмущению Представителя Президента нет предела, — открытая деятельность КПСС в Томске продолжалась вплоть до октября 1991 года.
Не указано, каким образом, но первый секретарь местного обкома КПСС Поморов продолжал держать за партией все предназначенные ей помещения и даже принимать там посетителей. Открыто проводились совещания партийного актива, причём особо подчёркивалось, что речь не о СПТ или РКРП, а именно о КПСС. По сути контроль попросту не был потерян114 . Местное отделение компартии настолько «обнаглело», что даже приглашало на собрания помощников Представителя Президента в регионе. Более того, ставленник Лигачёва открыто заявлял в местной прессе, что «партия будет сопротивляться», и активно при этом апеллировал к «революционному прошлому»115 .
Конечно же, это всё был просто красивый демарш, и последнее региональное отделение КПСС в России по итогу также ушло в небытие. Но они посмели уйти не так, как было «принято». Без опечатывания помещений, без силовиков с собаками и услужливого трудоустройства освобождённых работников. Ушли красиво, хлопнув дверью, заставив Представителя Президента мчаться на политический процесс в Москве и истерично брызгать слюной.
***
Подводя итог данному этапу процесса, можно заключить, что в историческом плане всё это было довольно познавательно, но с юридической точки зрения зачастую не имело отношения к предмету судебного разбирательства. Сроки, конечно же, дело в них. Экскурсы в далёкое прошлое никак юридически не продвигали процесс вперёд, работая только на политическую составляющую. И по историческим экскурсам президентская команда, конечно, опережала представителей компартии, хотя в попытке «политизировать» дело обвиняли как раз коммунистов.
Надо отдать должное, несмотря на преимущество президентской команды в силах и средствах, коммунисты находились в более выгодном положении. Указы о приостановке деятельности компартии были достаточно внутренне противоречивы и без всякого развенчания извне. Что же касается ходатайства Олега Румянцева, то тут коммунистам было достаточно доказать, что моменты нарушения закона в деятельности КПСС после реформы Конституции не были систематическими и представляли собой исключения, а не правило. И тот разнобой, который показали свидетели с обеих сторон на разных уровнях, уже свидетельствовал о том, что не могло быть однозначности.
Стало быть, не могло быть и однозначного запрещения. Увы, на самом высоком уровне, уровне Секретариата ЦК и Политбюро, для компартии всё сложилось довольно печально.
Обзор прессы за период
«Независимая газета» к открытию нового этапа процесса 21 июля 1992 опубликовала социологический опрос на тему поддержки населением августовских Указов. На самом деле, бесполезный соцопрос, как его ни интерпретируй: выборка была всего 500 человек. Из них 55 % считали Указы о запрете компартии необходимыми, но лишь 24 % разделяли идею массовых люстраций116 .
Уже знакомый нам Сергей Пархоменко из «Независимой газеты» оставил традицию зубоскалить над «меморандумом Клигмана» и признал, что отсутствие регламента работы Суда действительно является проблемой. Но не с политической точки зрения, конечно же, а с точки зрения того, что процесс затягивался. Точнее, писал он, его затягивали сами коммунисты. Почему коммунисты, которые своей тактикой избрали затягивание процесса, первыми же настаивали на конкретизации процессуальных моментов, исключающих это затягивание, — загадка. Подобное можно было говорить только об этапе представления сторон, но никак не о допросе свидетелей117 .
А вот Валерий Выжутович из «Известий» продолжал упорствовать. Даже более того, откровенно подтасовывать факты. Чего стоит только вот это:
«Слушания проходят утомительно и однообразно, с соблюдением всех процессуальных формальностей…»118
О процессуальной стороне вопроса мы за эти четыре части написали так много, что я не вижу смысла повторяться ещё, но всё равно это сделаю. Потому что тут больше — лучше, иначе ещё обвинят в вырывании из контекста. Вспомним, например, о «мешках секретных документов»:
«…Суд не препятствовал нашим противникам непрерывно ссылаться на документы до того, как они были представлены Суду и нам при допросе свидетелей и экспертов, причём этих документов у нас не было! Это создавало ненормальную обстановку, при которой мы были лишены возможности задавать контрвопросы по этим же документам»119 .
Конкретный случай можно наблюдать при допросе Н. С. Копанца. Да на этом правовом беспределе был построен весь процесс!
6 августа состоялась пресс-конференция Представителей Президента РФ, где они традиционно высказали уверенность, что процесс закончится их победой, и «уже скоро». На этот раз крайним сроком назначен был сентябрь120 . Внимательный читатель мог заметить, что такие победные сроки присутствуют в каждом обзоре прессы. Но теперь есть существенный прогресс: в прошлый раз демократы давали себе две недели, а теперь позарились на целый месяц. Даже автор из «Известий» выразил некоторое недоумение тем, что сторона смеет так явственно предвосхищать и сроки, и решение суда.
К 29 августа 1992 года в либеральной газете наконец-то дали слово коммунистам. Опосредствованно, конечно же. Михаил Карпов довольно предвзято пересказал итоги их пресс-конференции, но не рассказал ничего принципиально нового121 .
Не обошлось и без свидетельств «ренегатов», бывших партийных лиц, которые разочаровались в коммунистической идее и теперь с радостью играли на идеологическое сопровождение процесса122 . Хотя, справедливости ради, публиковали и негативные мнения беспартийных. Наиболее ценным «артефактом» для «Российской газеты» стал С. Тихарев, семидесятипятилетний ветеран Великой Отечественной войны из Тамбова. Вступивший в партию в 1941 году, во время боёв под Москвой, теперь он выступал за запрет коммунистической идеологии123 .
Довольно умилительным кажется торжество либеральных журналистов тех лет по поводу того, что суд над КПСС не превращается в главное событие десятилетия. Это, по их мнению, было свидетельством исторического поражения коммунизма. Учитывая современный вой о необходимости «судить коммунизм», мы, по-видимому, стоим на пороге какой-то крупной его исторической победы.
«Судя по многим признакам, мало-мальски серьёзным вниманием к суду, будь оно с каким угодно знаком, общество не пожелало отдать КПСС последние почести. Таков, по сути, всенародный приговор коммунистической партии, её идеям и делу, каким бы ни стало предстоящее официальное решение. Если и есть нечто поистине историческое в данном судебном процессе, так это широкое общественное безразличие к его возможному исходу»124 .
Забавно, что при такой трактовке пресса продолжала усиленно это самое внимание «разжигать», выдавая залпы мнений, документов, всячески держа руку на пульсе и помещая материалы процесса на первые полосы. Сдаётся мне, что здесь есть некоторое лукавство. Они хотели этого, хотели толп, устраивающих коридоры позора для «проклятых бюрократов», но народ безмолвствовал. Слишком занят был выживанием и получением «прописки» в дивном новом мире российской рыночной экономики. И за неимением лучшего это безмолвие представили как победу.
Нельзя не признать, что на защиту КПСС действительно встали немногие. Но, оглядываясь назад с позиции нашего дня, можно увидеть и другое. Народ, от имени которого выступал «первый демократически избранный», отказался судить. Он не поддерживал компартию, не простив ей политических промахов, но не стал и осуждать её на позор.
Для политической партии, потерпевшей тотальное поражение, это не самый плохой результат. Смогут ли рассчитывать на подобное прощение духовные потомки сил, которые одержали победу в начале 1990-х?
Этот вопрос ещё открыт.
Примечания
- Буковский В. Коммунизм и демократия несовместимы // Известия. 21 июля 1992. №166 (23740). ↩
- Боголюбов С. А. КПСС: хроника суда. М.: Независимая служба мира, 1993. С. 18−19. ↩
- Карпов М. Процессом в КС интересуется Ельцин // Независимая газета. 30 июля 1992. №144 (315). ↩
- Боголюбов С. А. КПСС: хроника суда. М.: Независимая служба мира, 1993. С. 5. ↩
- КПСС вне закона?! Конституционный суд в Москве. (Составитель С. А. Боголюбов). М.: Байкальская Академия, 1992. С. 157−158; Дэвидоу М. Камо грядеши Русь?.. М.: Молодая гвардия, 1993. С. 204−205. ↩
- Леонтьев М., Орлов В. Первое лицо повышает жалованье «третьей власти» // Московские новости. 16 августа 1992. №33 (628). ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 67−68. ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 67−68. ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 80−81. ↩
- Выжутович В. А судьи кто? А телекомментаторы кто? // Известия. 30 июля 1992. №173 (23747). ↩
- Состав Конституционного суда выбирался голосованием в Верховном совете РФ, так что каждый из судей был обязан своим местом определённой фракции, а большинство составляли сторонники действующего президента. ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 67−68. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 360. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 348−350. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 359. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 359. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 350−351. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 353. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 355−356. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 363. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 362. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 364. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 366. ↩
- Карпов М. В КС очередной тайм-аут // Независимая газета. 4 августа 1992. №147 (318). ↩
- Муравьёва И. Они утверждают, что умели хорошо убирать картошку // Российская газета. 22 июля 1992. №165 (501). ↩
- Коммунисты доказывают нелепость абсурдных обвинений // КоммерсантЪ. 27 июля 1992. №130 (130). ↩
- Министр печати против «Правды», «Гласности» и Петруне // КоммерсантЪ. 1 апреля 1991. №14 (64). ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 379. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 379. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 383. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 388−389. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 391−392. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 395. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 21 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 398−403. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 408. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 404. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 405-406. ↩
- Осадчий И. П. Как это было… К истории Компартии РСФСР — КПРФ / Восстановление коммунистических организаций в регионах // Wikireading.ru. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 427. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 430. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 445−449. ↩
- Муравьёва И. От Горбачёва дистанцировались. От ГКЧП будет труднее // Российская газета. 23 июля 1992. №166 (502). ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 455, 458−459. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 22 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 468−473. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 23 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 487. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 23 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 488. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 23 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 486. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 23 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 531−533. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 23 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 509−510. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 23 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 530−531. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 159. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 173−174. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 191−192. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 178−179. ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 81. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 171. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 169. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 169. ↩
- Прокофьев Ю. А. Как убивали партию / Под руководством Ельцина // e-reading.club. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 188−189. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 182. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 30 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 194. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 31 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 296. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 31 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 301. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 73. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 31 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 300−301. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 31 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 274−275. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 31 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 276. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 541. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 542. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 553. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 543−550. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 551. ↩
- Устав КПСС, глава IV, п. 31:
«Внеочередные (чрезвычайные) съезды созываются Центральным Комитетом партии по собственной инициативе или по требованию не менее одной трети общего числа членов партии, представленных на последнем партийном съезде. Внеочередной (чрезвычайный) съезд созывается в двухмесячный срок и считается действительным, если на нём представлено не менее половины всех членов партии». ↩ - Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 556. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 556−557. ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 78. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 563−569. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 570. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 576. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 578−581. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 583. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 590−602. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 606−607. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 24 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 1. М.: Спарк, 1996. С. 604−605. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 4. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 3−4. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 4−8. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 12. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 11−12. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 16−19. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 19. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 43. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 21. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 27−28. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 29−30. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 31. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 36−37. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 27 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 23, 29. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 73. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 76. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 70. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 79. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 81. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 102. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 89. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 89−90. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 28 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 92−93. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 121. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 104−111. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 113−114. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 116−118. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 31 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 285. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 285. ↩
- Заседание Конституционного суда Российской Федерации 29 июля 1992 года // Материалы дела о проверке конституционности Указов Президента РФ, касающихся деятельности КПСС и КП РСФСР, а также о проверке конституционности КПСС и КП РСФСР. Том 2. М.: Спарк, 1996. С. 285. ↩
- Грушин Б. Наибольшую поддержку августовские указы президента находят среди публицистов // Независимая газета. 21 июля 1992. №137 (308). ↩
- Пархоменко С. Конституционный Суд намереваются взять измором // Независимая газета. 22 июля 1992. №138 (309). ↩
- Выжутович В. Без сенсаций // Известия. 28 июля 1992. №171 (23745). ↩
- Рудинский Ф. М. «Дело КПСС» в Конституционном Суде. М.: Былина, 1998. С. 126. ↩
- Чугаев С. Представители президента в Конституционном Суде уверены, что в сентябре «Процесс по делу КПСС» закончится их победой // Известия. 7 августа 1992. №179 (23753). ↩
- Карпов М. Процесс в Конституционном Суде мог бы быть давно завершен // Независимая газета. 29 августа 1992. №166 (337). ↩
- Почта редакции // Российская газета. 21 июля 1992. №164 (500); Остановите наших радетелей // Российская газета. 4 августа 1992. №174 (510). ↩
- Приходченко В. Поколение обманутых и обманувшихся в паузе… // Российская газета. 21 июля 1992. №164 (500). ↩
- Выжутович В. Без сенсаций // Известия. 28 июля 1992. №171 (23745). ↩